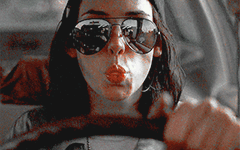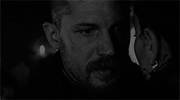philip rosier

faceclaim robert pattinson
| филипп розье
23 >> s'78 >> pb >> de
ты обсессия и компульсия, мой дорогой друг |
это было лето. жаркое и знойное, солнце пекло голову с умыслом превратить мозги в яичницу. белые накрахмаленные рубашки неприятно липли к лопаткам. натертые ваксой туфли запылились сразу же, как они сошли с поезда в шеффилде. в тот день стояла аномальная влажность, а они, решившие сбежать, не придумали ничего лучше, чем купить билет в один конец. разговаривать не хотелось, потому что в горле першило от слов и криков, но все уместилось бы в одно лаконичное предложение — и что дальше. лип снял ботинки, когда они сошли с трассы и спустились по холму к заросшей цветущими камышами реке. между их плечами было не больше девяти дюймов. для людей, которые намеревались сбежать, они оказались слишком пусты, глупы и слабы.
томми наклонился, чтобы потрогать речку кончиками пальцев. поморщился, но зашел в воду по щиколотку. она была холодная, искрящаяся на солнце как кристалл флюорита, из-за этого казалось, что его черные классические брюки переливаются радугой.
— куда в ботинках? — отозвался на это филипп. его голос сипел, как будто голосовые связки тоже поджарились под палящим солнцем и превратились в бекон к яичнице из мозгов.
томми не ответил ему. они продолжили идти в топко-теплой тишине — эйвери по ледяной воде, розье без ботинок по песку. когда мир разделяется на метафоричные ‘до’ и ‘после’ поразительно не находится правильных слов — вот вы держитесь за руки на заднем дворе особняка в сазерленде и вам по шесть, а вот жизнь превращается в пыль на задворках яркого представления в кабаре и вам приходится залезать в ублюдский цилиндр в пайетках, чтобы случайно не расстроиться. в последнее время все вообще ловят какую-то дикую тенденцию на расстраивания — так, будто расстройств не хватит уже на десять жизней с лихвой.
в какой-то момент томми остановился и сказал:
— кажется, я проткнул себе ногу насквозь.
лип тоже остановился. секундой они просто смотрели друг на друга, как будто впервые увидели — им не было шесть, им не было двадцать, не было пятьдесят, они просто были — здесь и сейчас, незнакомые, неприкаянные души, прошедшие свою точку бифуркации. потом лип медленно вошел в воду. нагнулся к ноге томми, прикрывая глаза козырьком из рук. его брюки тут же намокли, а лицо исказилось в гримасе отторжения.
— да уберешь ты ногу или нет? мне холодно и ничего не видно.
томми качнулся на пятках и с шумом выбрался на песок, затем осторожно сел, вытянув пятки. едва вода успокоилась, филипп выпрямился и тоже вылез на берег, сев рядом.
— там заостренная арматура размером с три моих пальца, — к мокрым брюкам приклеивалась пыль. — торчит из песка. больно?
жаль, подумал томас, мама будет недовольной. в контексте того, что они по условностям не собирались возвращаться домой, звучало ужасно прозаично. томми поднял пострадавшую ногу на другое колено и вывернул ступню так, чтобы было видно. подошва оказалась продырявлена, как и кожа.
— не очень. мерзость, — почему-то стало смешно. томас несколько раз издал нечто, похожее на громкий выдув воздуха из легких через нос, как бы намекая, что происходящее его веселит. затем вернул ногу в прежнее положение и лег на спину. — у меня кровь не идет, лип. как думаешь, это из-за того, что ноги онемели?
розье опирался на руки, выставленные за спиной. прикрытые глаза, россыпь веснушек. босые ноги. притворно возмутился:
— тебе с этого еще смешно, я не пойму?
нос горел. неясно, хотелось ли плакать или потому, что солнце пекло светлую кожу. может, все и сразу.
— знаешь, а я ведь без понятия, как дальше жить, — сказал томас.
лип молчал. им не шесть, не десять, не двадцать, не пятьдесят, им ничего и все сразу; они держатся за ручки с пеленок, чтобы потом точно так же смотреть на гроб, который отправляют в склеп. вместе с их сердцами. с их гребаными пустыми жизнями.
— я тоже не знаю, — честно ответил филипп.
правда в том, что никто из них не знает, как дальше быть.
— — — — — — — —
я опять написал фигню и ничего по сути, но мы держимся и не сдаемся и молимся, если тебе хочется вписаться во что-то интересное и вера в общие сюжеты для нескольких клоунов в тебе не умерла, то ты по адресу, потому что это тот самый запутанный сюжет, который сведет всех нас в дурку и его сложно рассказать, а еще сложнее написать в заявке, sooooo pls be patient i have aytism, филипп что-то про самопожертвование и страх, главная зануда, отличник, комсомол, подчищает за всеми следы и ворчит, потому что работа над репутацией опять на нем, тот-самый-который-всех-спасет, я верю, что у него творится какая-то лютая срань дома, но это просто выстрел в небо, а еще он единственный из компании, который получил все отлично на экзаменах, если друзья с пеленок тебя не прельщают, то не беспокойся, менять не буду, но и настаивать на активной игре тоже, приходи в лс с примером поста и получишь расписку на весь сюжет по блату
радую дураков
Глядя на картину на выставке ноунейма Энди Уорхол воскликнул: «Какая красота!» и зааплодировал, чуть не выронив бокал с игристым вином. Чтобы зациклить этот порочный круг и превратить весь сюр в вонючий Уроборос, Томас, глядя на неприветливую картину сырости и грязи по стенам подвала в поместье Фоули под Плимутом, с наигранным восхищением декламирует про себя: «Какая мерзость!» и приветливо улыбается мелькающим на подходе людям.
И если Рембрандт писал людей худшими в своей личине — подтертыми черным мазками, грязными полутонами и сгнивше-розовым, очерняя чревоугодие и гордыню, маслом — то вырезанные из кардстока спустя почти два века они — уроды в серости и свете одной-единственной сальной свечи — не изменились ни на йоту. Томас мерно шагает по лестнице вниз, свет убывает с его лица и превращает натужную веселость в застывшую картину Рембрандта, всеми забытую и выброшенную на помойку двести лет назад. По ощущениям, кто-то услужливо не забыл обтереть о нее свои ноги.
— Прекращай лыбиться, — дергает Томаса идущий впереди Фоули. Он не оборачивался, но его спина выглядит достаточно массивной и жилистой под обтягивающим костюмом-тройкой. Спорить не хочется. Томас молчаливо отводит взгляд и сжимает губы.
Червоточина грязи и сожалений, храм боли и костей, тихий Сайлент Хилл под эгидой славного протектората и парфешной мечты о том, что завтра будет лучше — где-то тут ютились мечты и надежды людей, уютно убаюканные под кашпо из черепов и трупоедов. Если бы на выпуске их Хогвартса вместе со словами о «трудной дороге и успехе» вежливо не забыли добавить то, что лестница будет из трупов, пришлось бы задуматься. Теперь же на Томаса смотрят все — мертвые и слепые сверлят ненавистью затылок, будущие и настоящие выдавливают из глазниц все, что осталось. Хочется смыть пергидролем их обгладывающий насухо голод, развернуться и слизать с мутных глазных яблок все немое осуждение и закричать про то, что все будет хорошо. Когда-нибудь. Может быть, не сегодня. Не сейчас.
— Знаете, — говорит Томас. Душащая тишина подземелий едва разбавляется его звонким голосом. Все становится похожим на постановку из театра теней, — существует одна интересная теория о мироздании. Человек сидел за обычным письменным столом и ел яблоко. Он надкусил его один раз, а потом случайно задел локтем. Яблоко закатилось под тумбочку и осталось там на много-много дней…
Фоули останавливается в полупрыжке и едва не скользит, когда поворачивается на пятках лицом к лицу с Томасом. Заинтересованным в продолжении истории он выглядит ровно на столько же, на сколько рад возиться с одним из новичков в Пожирателях.
— Мальчик, либо ты сжимаешь губы и стягиваешь сосало, либо тебе лучше не знать, что случится в ином случае.
Томас кивает, камерно улыбается, отдергивает себя, строит серьезную гримасу и кивает еще раз. Фоули тяжело вздыхает.
Дверь открывается с заунывным поскрипыванием. Аскетично развалившееся нечто на полутонах и полусловах — отголосок ненормального в тональности влюбленного «К Элизе» — едва ли человек, на полторы доли шмоток мяса и оголенных нервов на стуле экзекуций. Рядом стоит Лестрейндж. Томас ловит себя на том, что комната разом делится пятьдесят на пятьдесят — и если синонимом правой стороны была блевота поперек горла, то Лестрейнджа хотелось приодеть в белую бисерную рясу, взяться за ручки и рассказывать друг другу секретики шепотом. От этих ассоциаций блевать хочется в два раза сильнее.
Проблема Рудольфуса Лестрейнджа была в том, что он отчаянно не желал становиться героем чьей-то истории, а когда, вопреки всему, стал, это его ужасно расстроило. А расстройств им и так хватит на десять жизней вперед.
— Скажи честно, в какой из вариантов вселенных я могу увидеть тебя не в подвале пыточных рядом с человеком, которому надо загонять иглы под ногти, — Томас весело бросает это в никуда и подтягивается под руку Рудольфусу. Так, чтобы человек на стуле маячил только на периферии зрения.
Улыбается почти не устало. Разрешение говорить возвращается к Томми вместе с саркастично едким чувством юмора, и это значит, что в этом вечере еще не все потеряно. Возможность смеяться делает Эйвери живым даже с внушительных размеров дыркой в груди. А со всем, что происходит в жизни после того, как на пороге появляется незваный гость, Томас знает, что спорить бессмысленно.
Эйвери трет пальцы. Принюхивается. На его щеке дергается мускул.
— Неужели все действительно должно начинаться и заканчиваться вот так, — вопрос получается риторическим и неясным. Томас и сам не успевает сформировать мысль до конца — подоплека фундамента кроется то ли в том, что Томас всегда оказывается с Рудольфусом под ручку в гнилых декорациях, то ли в том, что люди садятся на этот стул и забывают, что такое дышать. — Когда ты уже откажешь отцу в этом чайном часе?
Что такое смерть? Отсутствие жизни? А жизнь? Отсутствие смерти? Как темнотой считается отсутствие света, а светом отсутствие темноты. Страшно несправедливая загвоздка — ведь темнота дополняет свет, а свет темноту нет. Или да? А тень лишь доказывает существование солнца, ведь без солнца не будет тени. А будет ли солнце без тени? Если солнце не дает тень, то значит, что оно не светит, а как же тогда солнце может называться солнцем, если оно не светит? То есть, солнце и тень, темнота и свет связаны по тому же алгоритму, по какому связываются жизнь и смерть. Если отобрать жизнь, то будет смерть, но если отобрать смерть, то будет…
Томас чихает в кулак.
Смотрит на Лестрейнджа. Тянет лыбу по-дурному.
Передергивает плечами. Будто да, вот так. Нарочито весело интересуется:
— Что будем делать?
И грустно переводит взгляд к мыску ботинок живого трупа.
Отредактировано thomas avery (2023-07-04 03:27:00)